Антония Байетт. Призраки и художники. М.: Иностранка, 2017. Перевод с английского Степана Бранда, Дмитрия Бузаджи, Ольги Варшавер, Ирины Зубановой, Ольги Исаевой, Матвея Межуева, Ольги Петровой, Анны Псурцевой, Дмитрия Псурцева, Марии Талачёвой
 Второй том собрания короткой прозы Антонии Байетт подоспел сразу за первым, о котором «Горький» писал вот здесь, и читателя стоит предупредить, что это совсем другая книга. Если в первом томе собраны фантастические рассказы, то во втором — реалистические. Даже в том единственном месте, где есть призраки, мы не можем сказать наверняка, что они героине не мерещатся, а там, где есть ведьма, почти нет никакого колдовства, — может, это просто эвфемизм для понятия «старая одинокая дама». Но вот что точно есть в сборнике Байетт — это женщины. По сути, если первый том собрания рассказов был о способах сказительства, то второй посвящен героиням. Это, если позволите, женский том.
Второй том собрания короткой прозы Антонии Байетт подоспел сразу за первым, о котором «Горький» писал вот здесь, и читателя стоит предупредить, что это совсем другая книга. Если в первом томе собраны фантастические рассказы, то во втором — реалистические. Даже в том единственном месте, где есть призраки, мы не можем сказать наверняка, что они героине не мерещатся, а там, где есть ведьма, почти нет никакого колдовства, — может, это просто эвфемизм для понятия «старая одинокая дама». Но вот что точно есть в сборнике Байетт — это женщины. По сути, если первый том собрания рассказов был о способах сказительства, то второй посвящен героиням. Это, если позволите, женский том.
Начинается он с истории умной девочки Эмили в английском пансионе — увлеченной читательницы Расина, мечтающей о ясном и безжалостно упорядоченном мире его драмы. Но учительница ставит ее на место, повторяя, что еще неизвестно, от чего человечеству больше пользы — от хорошо написанной книги или хорошо вышитой скатерти. На выпускных экзаменах от учительского презрения у Эмили случается нервный срыв: рыдая, она вспоминает свою тетку Флоренс, которая всю жизнь читала книги и мечтала о путешествиях, но в итоге всю жизнь ухаживала за больной матерью, затем мужем, затем сестрой, а затем у нее уже был артрит и поехать она никуда не смогла. Флоренс до самой смерти сидела и вышивала шелком атласные полотнища. Гостиная, в которой сидит, выпрямившись в своем кресле, состарившаяся Флоренс, а вокруг, на всей мебели, развешаны полотнища — это образ плена духа. И это одна из вещей, которые занимают Байетт больше всего.
Вообще Антония Байетт невероятно умный и внимательный собеседник, ее рассуждений и наблюдений из одного этого сборника нам хватило бы на годы. Культура для нее — способ не просто выживания, но и жизни вообще. Но чем этот способ возвышеннее, чем труднее выход во внешний мир, тем труднее наладить связь, разговор с ним. И тогда единственным выходом становится крик — как в рассказе «Щиколотки Медузы»: его героиня разносит салон красоты, сломавшись от невозможности коммуникации со своим легкомысленным парикмахером.
На этих страницах еще немало пленных женщин — запертых в коробку памяти, в желания родственников (родители, не отпустившие делать карьеру), в собственные страхи (старушка, которая боится выходить с собакой, чтобы не встретить насильника). Но поскольку Байетт все-таки очень умная, ее рассказы никогда не будут только о женщинах. Она говорит еще и о многом другом, но прежде всего о плененном духе. Будь то художник, который боится изображать цвет, или женщина, которая боится правды и скрывается от нее в мире фантазий. Здесь все пытаются нащупать ту невидимую нить, что связывает ясный и безжалостный, но понятный мир культуры с хаотичным, непознаваемым и поэтому еще более занимательным и живым миром частных историй. И точно только одно — один совершенно не может существовать без другого. Ведь какими скучными и пустыми были бы эти миры, если бы они никогда не пересекались.
Ханаан аль-Шейх. Тысяча ночей и еще одна. Истории о женщинах в мужском мире. М.: Синдбад, 2017. Перевод с английского Александры Северской
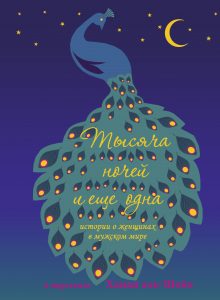 Ливанская писательница Ханан аль-Шейх пересказала для современников всего девятнадцать историй из «Тысячи и одной ночи» — достаточно добросовестно, чтобы мы их узнавали, и все же изменив некоторые детали. В итоге получаются «истории о женщинах в мужском мире», и за счет этого краткого отрывка вся «Тысяча и одна ночь» уже воспринимается иначе.
Ливанская писательница Ханан аль-Шейх пересказала для современников всего девятнадцать историй из «Тысячи и одной ночи» — достаточно добросовестно, чтобы мы их узнавали, и все же изменив некоторые детали. В итоге получаются «истории о женщинах в мужском мире», и за счет этого краткого отрывка вся «Тысяча и одна ночь» уже воспринимается иначе.
Мы помним, как все начиналось. Царь Шахземан собрался в гости к своему брату, царю Шахрияру, но перед выездом случайно узнал, что ему изменила жена, — и порубил ее мечом. Но и жена повелителя Шахрияра тоже оказалась ему неверна — он зарубил ее и всех ее наложниц и вдобавок велел каждую ночь приводить к себе по девственнице, чтобы жениться на ней, а с утра отрубить ей голову. И так всем рубили головы, пока не появилась Шахразада: дочь визиря вызвалась сама выйти замуж за царя и рассказывать ему сказки, пока не заболтает его так, чтобы он больше никому ничего не отрубал.
Но кровавая баня на этом не кончилась. В сказках Шахразады кого-то постоянно бьют, рубят мечом, унижают и убивают, и этот кто-то — женщины. Тут, конечно, сказывается и отбор материала: Ханаан аль-Шейх выбирает для пересказа очень яркую и известную сказку о носильщике и трех сестрах. Рассказ тут так важен сам по себе, что даже не прерывается ритуальными «Шахразада прекратила дозволенные речи». Он начинается с того, как носильщик с базара попадает в дом к трем сестрам-красавицам, где в то же время оказывается три дервиша и переодетые в купцов калиф Гарун аль-Рашид с визирем и другом. Ночь заканчивается исповедями всех присутствующих, которых тут даже больше десяти: брошенных и ограбленных женщин, бросивших и убивших мужчин.
Все это недалеко ушло от оригинала — просто все женские истории стасованы из тысячи в одну. В «Тысяче и одной ночи» и так есть этот постоянный спор, кто «хуже» — мужчины или женщины, но написана-то книга мужчиной (или даже мужчинами), поэтому женское коварство в нем неоспоримо. В трактовке Ханаан аль-Шейх для женщины коварство становится единственным условием выживания в мире мужской жестокости. Просто именно такие истории она нанизывает на нитку, достигая кумулятивного эффекта. При том, что прямое отличие от оригинала тут только одно: когда калиф аль-Рашид великодушно решает всех под утро перемирить и переженить, сестры уже не рады подарку, как радовались в оригинальной «Тысяче и одной ночи», а вежливо отвечают: спасибо, конечно, но замуж они больше не выйдут — лучше умереть.
Вот это «лучше умереть» и еще троеточие в финале вместо точки намекают читателю не доверять счастливой судьбе Шахразады и вообще никакой счастливой женской судьбе не доверять. Вкрапление правды в сказке — это потому что сказки всегда одинаковые, а различается только правда, на которую в сказках хотят намекнуть. За 500 лет мир не стал менее мужским, зато у женщин появилась возможность говорить «нет». Что уж там — бесценная.
Пьер Грипари «Сказки улицы Брока». М.: Текст, 2017. Перевод с французского Михаила Яснова
 Это очень старая книга: на французском она вышла в 1967 году, в 1990-е превратилась в мультипликационный сериал, в 2002-м первые отрывки из нее вышли в переводе Михаила Яснова. У Грипари вообще была очень интересная писательская биография: открытый гей, ярый антисемит, он восемнадцатилетним попал на войну, в 1963-м году рассказал о своем военном опыте в довольно успешной автобиографии, но писательский джекпот сорвал только «Сказками улицы Брока» — и дальше еще тридцать лет писал романы, театральные пьесы и критику, но читатели воспринимали его только как автора детских стихов и сказок. Собственно его сказки — это скорее замечательно мудрые притчи, в которых лучшее, что случается с миром, это его полная деконструкция.
Это очень старая книга: на французском она вышла в 1967 году, в 1990-е превратилась в мультипликационный сериал, в 2002-м первые отрывки из нее вышли в переводе Михаила Яснова. У Грипари вообще была очень интересная писательская биография: открытый гей, ярый антисемит, он восемнадцатилетним попал на войну, в 1963-м году рассказал о своем военном опыте в довольно успешной автобиографии, но писательский джекпот сорвал только «Сказками улицы Брока» — и дальше еще тридцать лет писал романы, театральные пьесы и критику, но читатели воспринимали его только как автора детских стихов и сказок. Собственно его сказки — это скорее замечательно мудрые притчи, в которых лучшее, что случается с миром, это его полная деконструкция.
Мир здесь разобран на части и собран заново в двух точках: лавке бакалейщика Саида на улице Брока и резиденции Папы Римского. Именно в лавку папаши Саида прибегает прятаться от Солнца укравший Полярную звезду поросенок или приходит маленький чертенок, который хочет стать хорошим. Русская сказка о «принеси то, не знаю что» и бессмертный Люстюкрю, персонаж французской детской песенки, ставший в сказке Грипари главным героем всей мировой истории и выписанной из нее за свое смешное имя. Колдуньи, феи, великаны, говорящие куклы, картофелина, влюбленная в гитару, правая туфля влюбленная в левую: всякое копошение маленькой жизни, созданное, по Грипари, не взрослым Богом, а ребенком Боженькой между ужином и сном, — это и есть мир. Это нарочито легкомысленные сказки, в которых совершается настоящее чудо: усилием автора абсурдный, лишенный законов мир становится вдруг понятен и познаваем. Бывает так, что, когда нам гораздо больше пяти и даже двадцати пяти, мы все еще только этого и хотим от литературы: чтобы все стало легко, понятно и просто. Хоть на минуточку.
