Я бы хотел начать с общей атмосферы 1960-х годов. Чем дышалось тогда, в начале вашей поэтической жизни?
Это годы символические. Такими они стали благодаря расхожему названию — «шестидесятники». Под него стали подводить всех творческих людей того времени, но главным образом известные фигуры, которые тогда выскочили в общественную литературную жизнь: Евтушенко, Вознесенский и далее по списку. Заодно стали включать в эту категорию множество новых литературных имен, которые были неофициальными, то есть тех, кого не допускали к читателю и слушателю, в отличие от нескольких баловней того времени. Поэтому я часто возражаю, когда меня и моих сверстников относят к шестидесятникам. Есть одни шестидесятники и есть другие — те, которые ушли в самиздат, в котельные, в сторожа и так далее. Еще этот термин я считаю неправильным, потому что эти так называемые другие шестидесятники начинали еще в 1950-е годы, после доклада Хрущева на XX съезде. Тогда появились надежды на преобразование общества, свободу, но эти надежды, к сожалению, были обмануты. Поэтому люди, которые не успели выскочить в литературу, обрести известность, оказались где-то в подполье. Но подполье это было очень творческое, активное, и существовало оно не только в 1960-е, но и потом, в 1970-е, когда эти люди достигли настоящей творческой зрелости. В целом, если говорить о 1960-х, — это время надежд, но больше разочарований.
А эти разочарования возникли постфактум или вы помните какой-то водораздел, когда стало ясно, что оттепель — это на самом деле очень ненадолго?
Во-первых, это витало в атмосфере, в ежедневной жизни. Были какие-то попытки что-то сделать, где-то напечататься, но потом они разваливались. Что-то выдвигалось, а на это ложился запрет. Но я считаю, что хрущевская оттепель в целом продлилась меньше года: от доклада, который был в марте 1956-го, и до осени, когда случилось венгерское восстание. После него тут же все молодежные начинания получили по шапке, в том числе и те, в которых я с моими товарищами был замешан. Как раз в 1956-м году по инициативе ныне покойного Бориса Зеликсона стала издаваться неформальная стенная газета Технологического института, в которой принимали участие Рейн (он вел отдел живописи и писал о Сезанне, за что потом получил свои неприятности), Найман (он заведовал отделом кинематографии), а я отвечал за раздел, посвященный литературе. Я написал статью о тогда начинающем замечательном поэте Владимире Уфлянде, которую назвал «Хороший Уфлянд», — такие названия в литературных изданиях были не приняты. Как сказал потом журналист из «Комсомольской правды», который учинил разгром нашей газеты, автор противопоставил Уфлянда советской литературе. Дескать, он не хватал своего читателя за шиворот и не тащил его на борьбу и сражение.
А каким образом эту газету заметили? Я так понимаю, она висела в единственном экземпляре на стене?
Пошел резонанс, и началась мелкая травля со стороны печально известного Якова Лернера, который травил потом молодого Бродского. Он начал с нас: в институтской многотиражке призывал к партийному ответу разгулявшихся молодых безответственных людей. Досталось всем сначала от Лернера, потом это стал обсуждать партком, который разделился, потому что непонятное для них время было: насколько далеко пойдут реформы, какова будет реакция — никто не знал. Но кто-то был бдительным и пригласил журналиста из «Комсомольской правды» — по-моему, это был Иващенко, который вызвал меня в деканат и спрашивал о том, как я до жизни такой дошел.
Страшно было?
Нет. Было ощущение опасного азартного веселья.
Наверняка круг читателей этой газеты был пятьдесят-сто человек, а теперь вдруг она стала фактом литературы.
Ее увековечила та же разгромная статья в КП. Это же лучшая реклама. То есть биографию сделали сразу нескольким «рыжим».
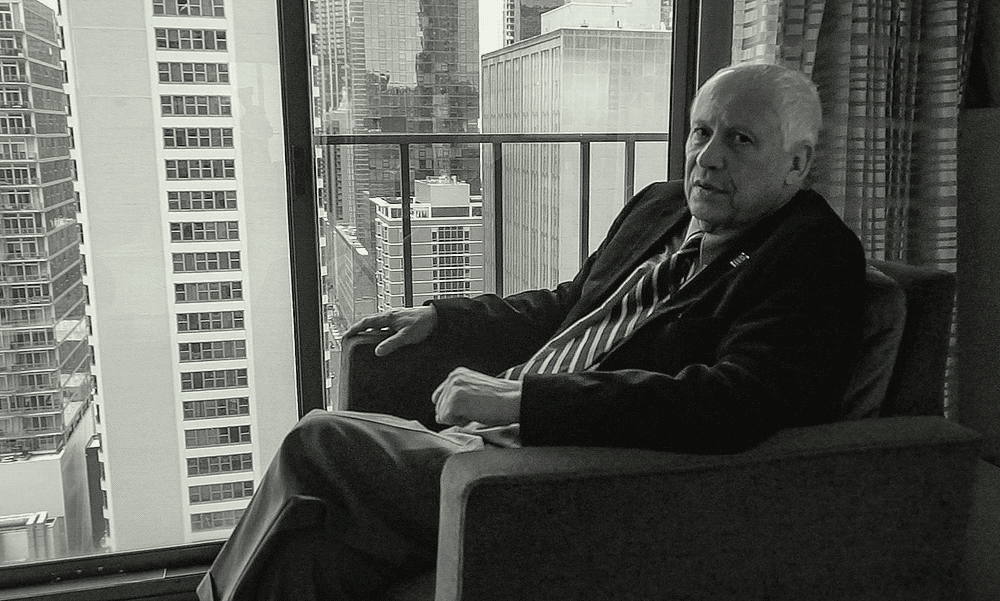
Дмитрий Бобышев. Чикаго, 2018 год
Фото: Юрий Левинг
Расскажите про контакты с западными сверстниками.
Шестидесятники общались с иностранцами очень избирательно. Я очень долго не имел такой возможности, не складывались обстоятельства. Лишь позднее, когда возник научный культурный обмен, появилась замечательная американская организация IREX, стали появляться студенты с Запада. Контакты с Западом у меня лично возникли в 1970-е, когда началась массовая эмиграция из СССР, и многие близкие друзья уезжали и присылали нам весточки через приехавших по обмену студентов и аспирантов. Они привозили книги тамиздата и увозили много самиздатских рукописей, то есть наши сочинения каким-то образом устремлялись на Запад. Ефим Славинский, который работал долгое время на BBC и сейчас живет в Лондоне, был одним из редких битников в свое время. Он часто общался с такими вот аспирантами: к нему приезжал, например, докторант Билл Чалсма, который делал диссертацию у Юрия Иваска в Массачусетском университете. Этот Билл увозил с собой от Славинского горы самиздата, в том числе стихи Наймана, Бродского, мои. Именно таким образом Юрий Иваск и узнал о нас и даже послал через кого-то письма поддержки, которые очень благотворно на нас подействовали. Это уже было время, когда все наши начинания заходили в тупик, и уже подступало отчаяние, поэтому такая мощная моральная поддержка с Запада с теплыми похвалами и понимание были очень кстати. Например, Иваск нашел в каких-то моих сочинениях, которые к нему попали, «державинские звуки». Это мне очень понравилось, потому что я действительно открывал для себя Гаврилу Романовича в его громозвучной красе. Впоследствии эти передачи книг сыграли для меня роль: когда я сам приехал на Запад, меня там уже знали. Тот же Юрий Иваск устроил мне первое выступление в Амхерсте и всячески поддерживал. Он же меня познакомил с эмигрантской литературой и талантливыми поэтами, такими как Игорь Чиннов, с которым мы тоже общались и переписывались, и Иваном Елагиным. Иваск приобщил меня к конференциям ассоциации американских славистов, он организовал на этих съездах особый семинар «Поэты, читающие свои стихи». Меня туда пригласили, это было в Филадельфии, потом в Нью-Йорке, там я познакомился с плеядой поэтов старой эмиграции — первой и второй волны.
Между разными волнами эмиграции, мягко говоря, царило недопонимание. Как вы себя чувствовали в этом кругу?
Да, было взаимное непонимание — это очень странно и в то же время вполне объяснимо. Странно то, что поэтов разъединяло то, что, казалось бы, должно было соединить: все они из русской культуры, живут в русском языке. В то же время каждая из волн эмиграций имела свой образ России: в первой волне он был дореволюционный, идиллический, такая картина усадебной России, у второй — кошмарный сталинский, а у третьей — скучный серый образ жизни, навязанный советской брежневской идеологией. Естественно, что они не понимали друг друга, а кроме того, было некоторое недоверие. Мне повезло, что меня встретила первая эмиграция, и между нами не возникло антагонизма или недоверия. Впоследствии я вписался в эту среду и не раз выступал на тему единения. Были хорошие примеры: скажем, вклад в русскую культуру двух эмигрантов — Глеба Струве, эмигранта первой волны, и Бориса Филиппова из второй волны. Они нашли общий язык и издавали книги Серебряного века, благодаря им через самиздат в Россию приходили книги, которых было не достать — полное собрание сочинений Ахматовой, Мандельштама, Волошина, Клюева. Это были ценности Серебряного века, которые отняли у тех, кто жил в СССР. Это был питательный глоток свежести и культуры. Между прочим, Серебряный век не все называют серебряным, некоторые считают, что это золотой век русской культуры.
Это правда, что вы ответственны за фразу «ахматовские сироты»?
Да. Правда, я говорил с другим ударением — тогда говорили сИроты, — поэтому так это слово попало в мою строчку. Это из моего стихотворения из цикла «Траурные октавы», посвященного памяти Ахматовой уже после ее смерти. Там 8 восьмистиший, где я фрагментарно даю ее живой портрет — глаза, голос, вид на фотографии — и описываю ее похороны. Они были запечатлены на фото. Там виден крест, воздвигаемый над могилой, и нас четверых: Рейна, Наймана, Бродского и меня. Ясно, что между нами и Ахматовой была духовная близость, и наша общая потеря была равносильна потере детьми родителей. Поэтому я и назвал нас ахматовскими сиротами. Эта строчка была очень уместна в «Траурных октавах», но когда критики стали писать о нашем кружке, то не нашлось какого-то определения нашей группы поэтов, поэтому они и взяли мою строку. Эта фраза уже вошла в литературные энциклопедии, так что теперь от нее никуда не деться.

Слева: похороны Анны Ахматовой. Справа: А. Найман, Е. Рейн, Э. Коробова, И. Бродский у гроба
Фото: dbobyshev.wordpress.com
Вы испытываете дискомфорт от того, что ей сегодня приписывается совершенно не тот смысл, который вы вкладывали?
Люди разные, некоторые относятся к этому иронически, проскакивают какие-то усмешки по этому поводу. Но я повторяю: эта фраза очень уместна именно в том контексте, в котором она была использована. Кстати, это был последний печальный повод, по которому мы собрались все вместе, после этого каждый пошел своим путем. Единение осталось в прошлом, его нельзя отрицать, но можно иначе назвать: я называю его «ахматовским квартетом». Бродский говорил, что Ахматова называла это «волшебным куполом» или «волшебным хором», но мне это возвышенное эстетическое определение по отношению к нам не очень нравилось — скорее тут можно иронизировать. Кое-кто говорит «ахматовская четверка», но мне кажется, что «квартет» подходит лучше всего.
У вас сохранились хорошие отношения с Анатолием Найманом. С Евгением Рейном — не знаю.
Рейн время от времени поругивает меня, причем неожиданно и очень некстати и без какого-то основания. Я же, наоборот, его каждый раз упоминаю положительно, поздравляю с юбилеями. С Найманом лучше — он, что ли, умнее, тактичнее, поэтому наши отношения сохранились на протяжении всех этих десятилетий. Мы переписывались, я ему устраивал в Иллинойском университете два раза выступления, а сейчас с новой техникой общение еще более упростилось.
Причиной вашего разобщения был Бродский? Как вы относитесь к «культу Бродского»?
Я к любым культам, особенно культам личности, отношусь отрицательно. Мое детство проходило под знаком культов революции, коммунизма, мертвого Ленина и живого Сталина, а юность прошла под знаком разоблачения этих культов. Так что в литературе я тоже очень скептически отношусь к излишнему возвеличиванию одной фигуры. Это напоминает спортивное состязание, где чемпион один, а остальные не имеют значения, или культы в эстраде, в более низких жанрах искусства. Еще я помню очень странное советское явление, когда космонавты считались гуру, которые могут отвечать на любые вопросы: какие книги читать, в чем смысл жизни. И в литературе, к сожалению, случается преувеличенное восхваление. Я думаю, что в истории с Бродским огромную роль сыграл успех. Причем не сами стихи, которые привели к успеху, а именно результат. Потому что особенно в третью волну приехали люди, чтобы осуществиться, — понятно, что им нужны были яркие примеры. А Бродский, который достиг очень многих наград на Западе и Нобелевской премии, стал для них идеальной фигурой эмигранта. К сожалению, он дорого заплатил за это. У Ахматовой есть такая строчка: «И не знать, как от счастья и славы безнадежно дряхлеют сердца». Вот эта удача и слава, я думаю, подорвали его здоровье. Это огромное напряжение, которое испытывают все эмигранты, которые чего-то добиваются в новой жизни.
Вы предпочли бы, чтобы он был жив, но был бы номером два?
Я считаю, что жизнь выше искусства и выше всех успехов, которых можно достичь в искусстве. Жизнь — самая простая и самая обыкновенная — выше всего этого.
Вы думаете, Бродский сознательно себя довел до такого взвинченного состояния?
Я думаю, что он поставил свою жизнь на кон, и это потребовало огромных усилий. Конечно, он был нацелен на высшие достижения.

Дмитрий Бобышев с Иосифом Бродским, 1960-е
Фото: dbobyshev.wordpress.com
Вы упомянули соперничество. Ваши оценки стихов Бродского широко признаны, но многие не согласились с вашей характеристикой стихотворения «На независимость Украины» — по вашим словам, это «поношение, этническое оскорбление украинского народа» и «вульгарный стеб». Обусловлен ли ваш разрыв с Бродским эстетическими расхождениями?
Я считаю, что соперничество необходимо, но в случае с Бродским его окружение исключало соперников и соперничество, оно очищало место для того, чтобы возвышался золоченый памятник. Вайль или Генис говорили, что у Бродского не может быть соперников, но это нездоровая и ненужная атмосфера. Вы говорите, что я в своем докладе критиковал его. Во-первых, та же атмосфера культа исключает литературную критику, а он был изолирован от нее. Солженицын высказался неоднозначно о стихах Бродского — так на него накинулись какие-то мелкие литераторы. Кто-то еще критиковал — по-моему, Наум Коржавин, — но больше, кажется, никто не осмеливался. Что касается меня и моего выступления, то я критиковал его не как личность, я касался только текстов, которые можно и нужно рассматривать под критическим углом. Я признаю его высокие достижения, и мне в этом смысле не хватает Бродского, потому что его новые стихи были для меня высоким образцом. Он действительно обладал невероятной способностью свободного речеизъявления в стихах. Даже в устной речи редко бывает, что люди умеют правильно и гладко выражать свои мысли. Я ценю его раннюю лирику, не всю, а ту, которая связана с его архангельским отсутствием, где написаны самые его теплые слова, чего ему потом не хватало даже в самых его совершенных произведениях. Например, «Осенний крик ястреба» — это великолепные стихи, но какой от них холод! И некоторые из последних его стихов мне кажутся очень сильными, например, стихотворение «Портрет трагедии»: трагедия стучит в дверь и входит — это страшное дело и страшные образы, для которых он нашел правильные и точные слова.
Что бы вы сказали Бродскому, если бы встретили его сегодня, подали бы вы ему руку?
Если бы он мне подал руку, то я бы ответил.
Простили его?
Я его простил. Я даже написал стихи об этом еще при его жизни. Когда старое тысячелетие клонилось к закату, я написал стихотворение «Прощай и здравствуй», где есть обращение к Иосифу, такое же, как и к другим близким людям, у которых я просил прощения. Я не буду сейчас его цитировать. Когда я приехал в США, мы с ним поговорили однажды по телефону по делу. Дело было в том, что Константин Кузьминский, или просто Кока Кузьминский, начал тогда издавать свой монументальный девятитомный труд — антологию непечатаемых русских поэтов «У Голубой Лагуны». Банальность такого названия для Кузьминского, относившего себя к неофутуристам, должна казаться позорным словосочетанием. Он в одном из томов собирался напечатать всю нашу четверку «сирот», причем без спросу. Я окольными путями узнал, что в этом же томе он собирается напечатать свои довольно вульгарные издевательские пародии на Анну Ахматову. Надо сказать, что у него был некоторый заскок, кажется, это называется мизогиния — женоненавистничество. Особенно он издевался над поэтессами, у него даже была коллекция «менструальной поэзии». Увы, туда он занес и Ахматову. С этим безобразием я, конечно, печататься не мог. Если бы не это, я бы не протестовал, если бы он напечатал мои стихи. Бродского он тоже не спросил, а Найман, когда я уезжал, вообще настаивал, чтобы я препятствовал его публикациям на Западе. И вдруг оказывается, что Кузьминский печатает нас в одном томе и там же отвратительные пародии на Ахматову. Тут я, конечно, вспомнил про свои авторские права, позвонил ему и запретил печатать, на что он поинтересовался, что я буду делать в случае, если он все же напечатает. Тут я повторил слова Надежды Яковлевны Мандельштам, которая была в подобных обстоятельствах: я сказал, что обращусь в суд. Какой суд? Народный, конечно! Мало того, я позвонил Бродскому в Нью-Йорк и сразу сказал, что я по делу, связанному с Ахматовой. Он очень нормально воспринял меня, выслушал и сказал, что он об этой кузьминской затее ничего не знал и тоже запретит ему печатать свои стихи. После мы поговорили просто по-человечески о США. — Как тебе Америка? — спросил он. — Трудно, но интересно, — я ответил. — Что же тебе интересно? — Да все: краски, лица, — ответил я. — Ну, да. Не помочь ли тебе чем-нибудь? — Нет. Спасибо, — взыграла гордость во мне. На этом наш последний разговор и закончился.
В моем интервью с ныне покойной Натальей Горбаневской зашла речь о вас. Цитирую ее: «Так вот, Бродский был в доброте своей даже какой-то нежный, он даже иногда говорил „Митя”. „Митя”, который ему устроил в свое время свистопляску, но все-таки в этом „Митя” была нежность, воспоминания о нескольких годах их дружбы, когда Дима был Иосифу старшим товарищем и поддержкой. Это прорывалось».
Я это воспринимаю скорее как нежность со стороны Наташи, а не Бродского. Бродский, когда называл меня «Митя», скорее вносил таким образом иронию, потому что меня так не называли никогда, это простонародное прозвище. Мы друг друга называли Жозеф и Деметр.

Дмитрий Бобышев и Наталья Горбаневская. Середина 1970-х
Фото: из архива Д. Бобышева
А вы на «ты» были?
Да. Найман почему-то не перешел.
Может быть, это что-то женское: Наталье Горбаневской просто хотелось восстановить мир?
Да, Наташа… Железная Наталья, между прочим. А в ней самой вдруг такая нежность заговорила…
Давайте вернемся к вашей литературной судьбе. Как вы думаете, вы все-таки войдете в историю русской литературы как самостоятельный поэт или за вами будет тянуться этот шлейф неприятной истории полувековой давности, принадлежность к квартету?
К сожалению, будет тянуться. А может быть, даже без сожаления. Пускай.
Это часть вашей личной или поэтической биографии?
Ну уж не личной, скорее литературной биографии. Я бы придерживался формалистского подхода — автора не существует, существует только текст. Я бы так хотел, но, к сожалению, читающая публика хочет за текстом найти человека и развинтить его. С этим ничего не поделать — это читательская природа. Но есть еще и знатоки и ценители литературы и поэзии, которые разберутся в том, что главное. Если из человека вытянуть одну какую-то селезенку и рассматривать только ее, сопоставлять ее с текстами, то это будет ложь. И эта ложь обо мне, как я чувствую, будет продолжаться. Я с этим имею дело, как и со многими другими неприятными явлениями жизни. Например, живя в СССР, приходилось считаться с тем, что власть принадлежит хунте бюрократов, но быть при этом самим собой, осуществлять свою личность свободным образом, и я считаю, что этого достиг.
Вы достигли чего хотели как прозаик и мемуарист?
Нет, не всего. Я хотел бы хорошего издания моих стихов, мемуаров, может быть, статей и писем, но это уже без меня, как приложение к четырехтомнику. До сих пор этого не было.
Вы открыты к публикации своих писем, дневников, архивных материалов? Бродский, например, запретил.
Я открыт. Думаю о том, куда предложить мой архив. Может быть, я предложу нашему университету, где я прожил профессиональную жизнь. У меня были предложения от бременского архива, от Пушкинского дома.
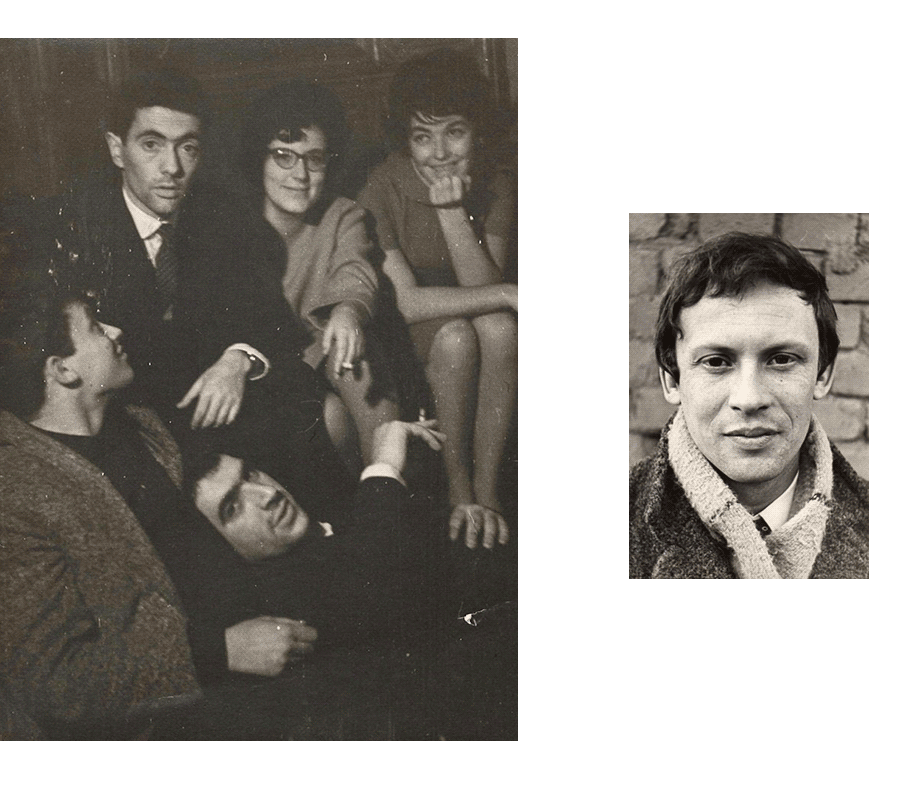
Слева: Дмитрий Бобышев, Евгений Рейн, Анатолий Найман, Людмила Штерн, Галина Наринская на дне рождения Иосифа Бродского. 24 мая 1962. Фотограф — Иосиф Бродский
Фото: dbobyshev.wordpress.com
Но вы не хотели связываться с Россией?
Тогда еще рано было.
Чем вы объясняете то, что в России ваши книги не выходили много лет?
Они выходили. В 2003 году вышел первый том трилогии «Человекотекст», а второй том, «Автопортрет в лицах», вышел в 2006-м или 2007 году. Потом вышли две книжки стихов — «Знакомство слов» и «Ода воздухоплаванию». После этого да, ничего не было. Третьим томом «Человекотекста» никто не заинтересовался, хотя я предлагал. И вот вдруг, как это бывает у хороших писателей — например, как у Курта Воннегута, выскочил издатель или как у Булгакова в «Театральном романе», — явился некий славист из Калифорнии Чарльз Шлакс, который взялся напечатать эти три тома и сделал это. Тираж маленький, полиграфия не очень, но тем не менее. Кроме того, за эту публикацию взялись журналы. Например, «Юность» (только не новая, а старая) взялась печатать все три тома поглавно из номера в номер три года. Мало того, заинтересовался еще один интернет-портал — «7 искусств», который существует и в бумажном виде. Там тоже, как и в «Юности», печатались главы каждый месяц. В этом смысле жаловаться мне не на что: хотелось бы иметь красивые книжки, но, по сути, я полностью опубликован.
А слава важна? Как ее измерять?
Я ее измеряю пользой. Это нужная и полезная вещь для того, чтобы открывались глаза у читателей, которые бы не открылись если бы не было славы. Кроме того, слава нужна для издателей, которым нужно имя. Слава, как мы знаем, тоже имеет опасные стороны, которых следует остерегаться.
У вас есть аккаунт в Facebook, персональный сайт. Это вам нужно как еще один канал связи с читателем, или просто нравятся новые технологии?
И то и другое, но главным образом, конечно, как окно к людям. Такое социальное окно, выход, который раньше был фантастическим, а теперь стал реальным.
За кем вы сами следите?
Я читаю сейчас в основном мемуары, книги по истории литературы, интервью, если они сделаны не на живую нитку. Читаю писателей и литераторов моих лет, мне интересны их мнения и реакции на те события, которые я пережил.
Вы интересуетесь современной русской поэзией? Сейчас, например, очень модны русские рэперы.
Этот жанр мне чужд. Смесь литературы и реслинга меня отталкивает. Я смотрел видео Oxxxymiron*Мирон Федоров признан в России иностранным агентом, Гнойного, но тут сами названия говорят о том, что это что-то отталкивающее. Я вообще к антиэстетике отношусь антиэстетически.
Все-таки футуризм наследовал символизму, а социальная языковая агрессия были и у Маяковского, и у Хлебникова… По поводу Гнойного я совершенно с вами согласен, но нельзя не отметить, что тут есть какая-то свежесть по части работы с языком, — как-то вдруг он деавтоматизируется, по Шкловскому, да?
Что-то, наверное, есть, но в целом… Сама по себе агрессия тоже бывает хороша, свежа, но без хамства и безобразий. Мне кажется, что можно обходиться без языковых безобразий, того, что мягко называется нестандартной лексикой. Может быть, кто-то в каком-то мужском клубе может специально порезвиться, но для широкой публики это не годится, это шокирует. Меня, например, шокирует не только нецензурщина, но и красивость и другие штампы, стереотипы не меньшим образом. Я эту антиэстетику отношу к той же нежелательной категории.
Есть ли для вас сейчас в русской литературе поэт номер один?
Я против номеров.
В каждом десятилетии кто-то есть, но сейчас даже Нобелевская премия в литературе уже вызывает споры.
Я иронически отозвался о Константине Кузьминском, но он сделал замечательную вещь (хотя сделал плохо и хаотично) — антологию непечатаемых поэтов. И он сказал одну верную вещь о читателях: читателям слишком много даже одного писателя и одного поэта — им с головой хватило Солженицына и Бродского, не горько ли это? Я с этим согласен.

Дмитрий Бобышев на озере Онтарио
Фото: личная страница в facebook
Не грустно ли вам, патриарху русской поэзии, сейчас взирать на эту ситуацию?
Кого вы относите к патриархам? (смеется) Видите, у меня на лацкане значок, который выдавался на юбилей Иллинойского университета, где я преподавал полный срок? Так вот, когда я ехал поездом в Чикаго и снял пиджак, одна спутница меня весело спросила: это кому 150 лет, не вам ли? На это я ответил ей, что для своих 150 я выгляжу слишком молодо. Пусть мне 150, пусть я патриарх, даже Мафусаил, но тогда я молодой Мафусаил — он жил 600 лет, а мне всего еще 150.
Ваша душа молода?
Не знаю, увидим, когда предстанем перед Судом. Молодая душа катается на старом велосипеде… Когда мне позвонили из Нью-Йорка и сообщили о смерти Бродского, я был очень опечален, это был шок, что он умер в таком молодом возрасте, а он был самый молодой из нас. Я написал некролог о нем, который назвал «Вдогон уходящему», его напечатал «Новый журнал». Но, что интересно, очень таинственно и даже немного страшновато, на сороковую ночь он приснился мне как в яви, молодым, в вельветовом пиджаке. Он очень радушно приблизился ко мне и что-то хорошее пытался мне сказать, но не смог, а потом исчез. Я понял, что это не просто сон: это его душа пришла со мной проститься и простить. Я написал по этому поводу стихотворение «Гость», в котором в точности все описал, только в стихах, с недоумением, что он — посол чужого языка, который на своем не смог высказать что-то важное для нас двоих. Но я прощаю его, потому что я сам потом это узнаю.
