1. Этой ночью стало известно, что умер Леонард Коэн. Об этом будет написано еще очень много, пока что хочется предложить вниманию читателей несколько недавних текстов о нем: большую статью главного редактора The New Yorker Дэвида Ремника; рецензию в Paste на его последний, вышедший три недели назад альбом «You Want It Darker»; главу из книги Алана Лайта, посвященную его самой известной песне: «Критики часто обращали внимание на мрачность и безнадежность его стихов, но в этой песне он говорит нам о надежде и стойкости перед лицом жестокого мира. Будь ты свят, будь ты сломлен, всегда остается аллилуйя». А вот — мысли Коэна о том, как пишутся стихи: «Возьмите слово „бабочка”. Чтобы произнести его, необязательно, чтобы голос весил меньше унции или был оснащен крылышками, покрытыми пыльцой. Необязательно выдумывать солнечный день, поле нарциссов. Необязательно быть влюбленным — или влюбленным в бабочек. Слово „бабочка” — это не настоящая бабочка. Если вы смешаете одно и другое, люди будут с полным правом над вами смеяться. Не придавайте слову такого значения. Вы что же, хотите сказать, что любите бабочек больше, чем все остальные, или действительно понимаете их природу? Слово „бабочка” — это всего лишь информация. Оно не подарит вам возможность порхать, парить, дружить с цветами, олицетворять красоту и хрупкость, изображать из себя бабочку любым способом. Не выдавайте себя за слово. Никогда не выдавайте себя за слово. Никогда не пытайтесь оторваться от пола, если говорите о полете. Никогда не закрывайте глаза и не дергайте головой, если говорите о смерти. Не вперяйтесь в меня горящим взором, когда говорите о любви. Если вы хотите произвести на меня впечатление, говоря о любви, засуньте руку в карман или под платье и начните ублажать себя. Если говорить о любви вас заставила жажда славы, рукоплесканий, вы должны научиться говорить так, чтобы не позорить ни себя, ни ваш предмет».
2. Вам, конечно же, очень интересно, что говорят писатели о победе Дональда Трампа. Американские СМИ, несмотря на неподдельный шок, составили для вас и такие подборки. Buzzfeed позволяет узнать, что о президенте Трампе думают Стивен Кинг («В ближайшее время никаких советов о книгах, политики и смешных фотографий с собаками. Я отключаюсь»), Джойс Кэрол Оутс («Если жизнь — это оперетта, то в следующем акте нас ждет президент под судом (подлог, изнасилование), потом — президент в тюрьме и злокозненный вице-президент у власти, потом…»), Джоан Роулинг («Мы вместе. Мы защищаем слабых. Мы выступаем против мракобесов. Мы не позволяем языку ненависти стать нормой. Мы не сдаем позиций») и Джон Грин («Что посеешь, то и пожнешь»). The Los Angeles Times цитирует Нила Геймана («Говорите то, что должны. Вдохновляйте. Помните, что перемены всегда начинаются с идей»). Еще несколько твитов — в подборке Time: писательница из готовой к наплыву иммигрантов Канады Маргарет Этвуд сообщает американцам, что «в отдаленной перспективе все будет хорошо», Гэри Штейнгарт рекомендует вылезти из твиттера и почитать хорошую книгу, а Рэнсом Риггс констатирует, что «у нас в стране серьезный недостаток эмпатии». Подборку ссылок на развернутые статьи, которые уже успели появиться, собрал Lithub: от «Американской трагедии» Дэвида Ремника и «Дерзости безнадежности» Роксан Гэй до «Конца империи» Вьет Тан Нгуена: «Болезнь американской политики никто не лечит, и она так и останется неизлеченной, а то и будет усугубляться в стране, которой правят клоуны, заговорщики и коллаборанты. Эта болезнь — империализм. Америка — империалистическая страна, и сейчас мы, возможно, наблюдаем ее разложение. <…> Империи гниют изнутри, даже если императоры во всем винят варваров».
Отдельно стоит упомянуть пост в ЖЖ Джорджа Мартина с красивым названием «Президент П…охват» (элект, как мы знаем, лет десять назад разоткровенничался под запись, сообщив, за какие части тела он любит хватать женщин; впрочем, в сравнении с каким-нибудь Рамси Болтоном Трамп — младенец). Мартин говорит мрачные банальности («Трамп — наименее квалифицированный кандидат в президенты от одной из крупнейших партий. В январе он станет худшим президентом в американской истории и опасным, непредсказуемым игроком на мировой арене»), но заканчивается пост банальностью классной: «Зима близко. Я предупреждал».
Немного скрашивают общий тон поэты. В Kenyon Review Коди Уокер заблаговременно выяснил, с чем рифмуется «Трамп», а некто Сергей Семенов, автор тома «России низко поклонитесь: Владимир Путин вас спасет», уже успел собрать и выставить на «Озоне» четыре (!) книги: «Дональд Трамп — гордость Америки», «Дональд Трамп — друг России», «Дональд Трамп — ты гений» и «Дональд Трамп — надежда мира», с Моной Лизой на обложке.
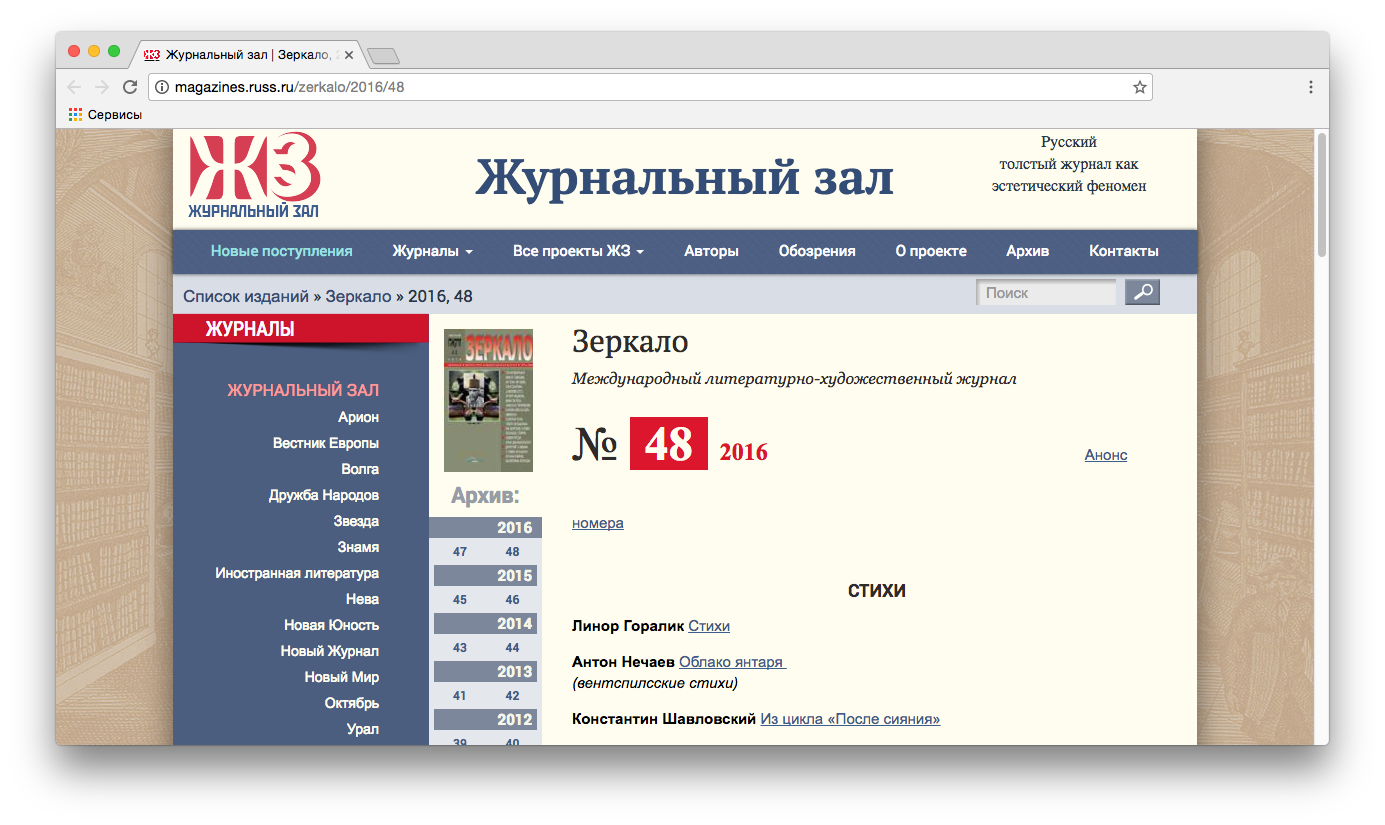
3. Вышел новый номер тель-авивского журнала «Зеркало». В нем стоит обратить внимание на новые стихи Александра Авербуха и Линор Горалик («Кого забрали из живых перед продленкой / бежит и крошечное яблочко кусает / летит в делирии под липами дер линден / летит пушинкой в распростертые объятья»), сверхнуарную прозу Ильи Данишевского, которую Дмитрий Бавильский сравнивает с «Песнями Мальдорора» (а нам хочется сравнить с Моник Виттиг, Жоржем Батаем и Майклом Джирой; чтение решительно не для всех), и важную архивную публикацию: абсурдистскую восточную притчу Павла Зальцмана. Здесь же — совсем уж неимоверные, офенско-петрушевские «Хандырские сказки» Леонида Сторча («Зарадовались тут стрыч да стрычья, засчастливились. Осенились по-страдазейскому, добровония воскурили, а потом растушили тушу вытрусля быстрехонько») и статья Татьяны Левиной о Пастернаке и русской живописи.
4. 6 ноября завершилась 10-я Красноярская ярмарка книжной культуры. Отчет о ней можно прочитать на сайте «Книжной индустрии». Одно из ежегодных КРЯККовских событий — дебаты, на которых формируется короткий список премии «НОС»: открытость голосования — принцип премии. На «Кольте» опубликована расшифровка дебатов. Члены жюри, как ни странно, заявляют, что никакой «новой словесностью» в прочитанных ими книгах и не пахнет, тексты, напротив, «заряжены» на прошлое: «В этом году внезапно все тексты, которые мы читали, выглядят как отчаянная попытка связать настоящее с прошлым любыми способами», — говорит режиссер Константин Богомолов. «Думаю, что коллапс авторского письма в русской литературе — это уже не оценочная вещь, а свершившийся факт», — произносит кинокритик Антон Долин. Тут бы, кажется, и разлететься по домам, но в итоге шорт-лист составлен, и отнюдь не плохой. О нестыковках и в организации дебатов, и в их содержании здесь же пишет Сергей Сдобнов: «…участникам дебатов стоит рассказать зрителям о том, что за книги они выбрали, а то даже подготовленный зритель почувствует себя Незнайкой среди умных взрослых. <…> Если жюри говорит про почти полное отсутствие сильных авторов в тех сотнях книг, которые были присланы, то из-за своего пренебрежения к аудитории оно потеряет и ее».
5. На сайте альманаха «Транслит» его основатель Павел Арсеньев пишет о недавней поэме Эдуарда Лукоянова «Кения»; собственно, этим текстом Арсеньев номинирует Лукоянова на премию Аркадия Драгомощенко. Письмо Лукоянова Арсеньев называет дейктическим (то есть указывающим, означающим) и позитивистским — заостренном на факте, а не на бесплотных литературных фигурах. Разделяя позитивизм в литературе на «репрезентативный» и «индексальный», Арсеньев относит «Кению» ко второму типу: «Говорящий в поэме прибывает в новую для него страну и описывает только свои действия, то, что встречается на его пути, а также возникающие вследствие этого первичные впечатления (температурные, зрительные, тактильные и так далее), еще не деформированные культурной рефлексией». Поэма Лукоянова действительно устроена как компендиум впечатлений чужака, со всеми плюсами и минусами такой позиции, но при этом перечисление деталей постоянно сбивается на то, что в России этого нет — «такого горячего бетона» или «таких желтых футболок». Постепенно исчезают и эпитеты: в России нет «таких мух», «таких собак», «такой бедности», а в конце поэмы говорящий смеется беспричинным смехом, которого тоже нет в России; уместно заметить, что в этот момент в России нет и самого говорящего. У поэмы есть очевидный, пусть и несколько остраненный иронией, политический подтекст, но в изложении Арсеньева главным оказывается именно дейксис — демонстрация стремления языка назвать то-то и то-то и одновременно замкнуться на самом себе.
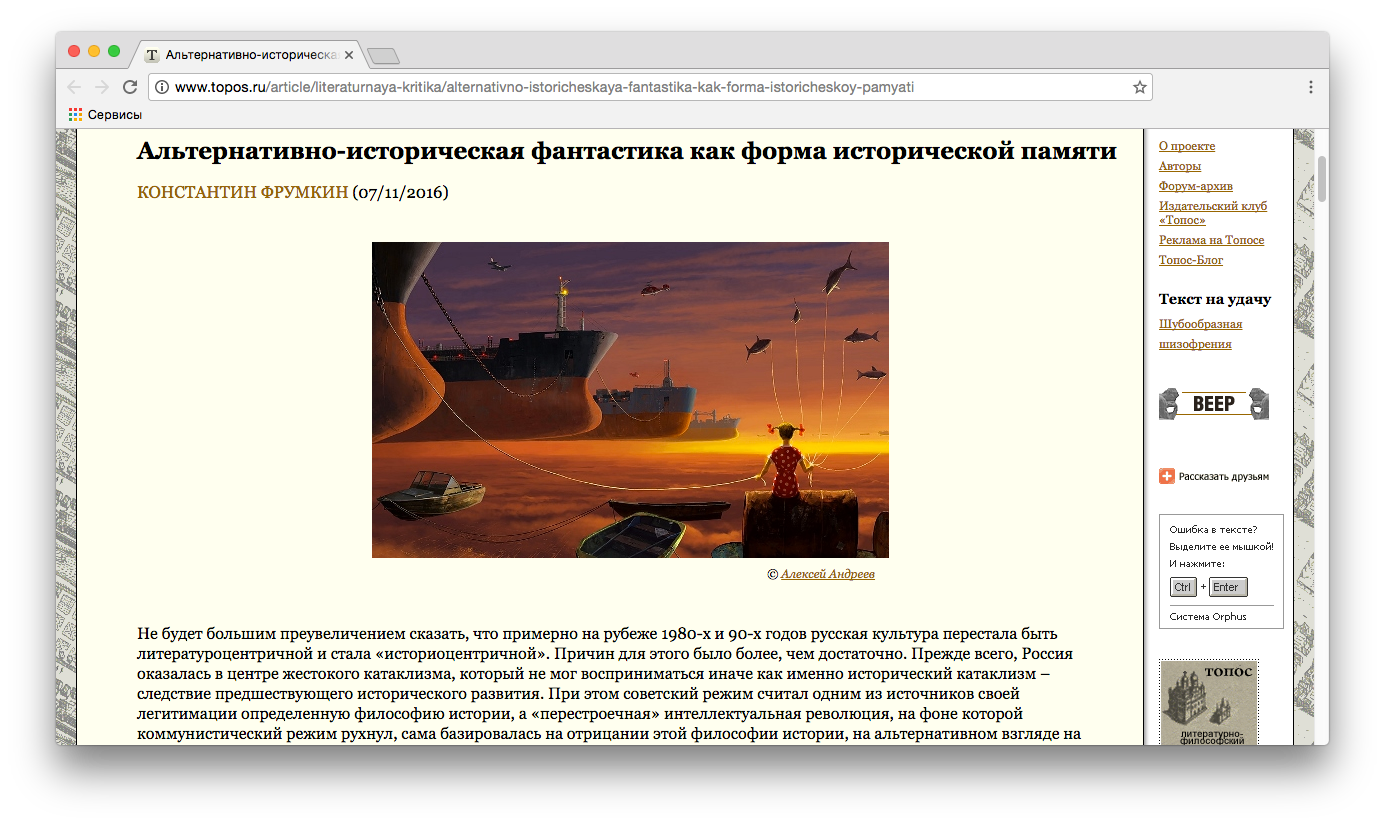
6. Журнал «Топос» публикует статью Константина Фрумкина «Альтернативно-историческая фантастика как форма исторической памяти». Название говорит само за себя: Фрумкин показывает, что фиксация фантастов на альтернативной истории, от «развилок» до «попаданцев», свидетельствует (как и многое другое) о том, что российская история не проговорена, относительно нее нет консенсуса, но запрос на такой консенсус — громаден. Эта непроговоренность во многом зависит от ощущения настоящего: «Поскольку мы не удовлетворены современностью, постольку естественно эта наша неудовлетворенность проецируется назад по шкале времени, превращаясь в желание внести исправления в предысторию». Постсоветская культура, по мнению автора статьи, из литературоцентричной превратилась в историоцентричную.
В эпоху «большого исторического нарратива» «альтернативных» текстов появляется немного — Фрумкин называет «Апостола Сергея» Натана Эйдельмана, где есть глава о гипотетической победе декабристов, и «Остров Крым» Аксенова; в 1990-е, сразу после исторического потрясения, которое этот нарратив завершило, количество таких текстов резко вырастает: «число публикаций на эту тему перестало поддаваться подсчету… в постсоветскую эпоху „альтернативная история” превратилась в особый жанр, причем число работающих в нем писателей измеряется десятками, а произведений — сотнями». Сейчас альтернативную историю пытаются применять даже в научных исторических штудиях, смело отбрасывая трюизм о незнании сослагательного наклонения. Фрумкин делает попытку вычленить инвариант альтернативно-исторического пафоса, в грубом приближении он выглядит так — «история полна проблем, имеющих ценностную природу, но для этих проблем имеются технические решения»: «[Пример] сюжета с попаданцем — роман Сергея Буркатовского „Вчера будет война”, в котором попавший в 1941 год современный веб-дизайнер пытается предупредить советское руководство о начале войны. <…> В романе Анатолия Дроздова „Господин военлёт” душа российского военного попадает в тело русского летчика времен Первой мировой войны, и герой, конечно, пытается „спасти Россию”». Главной проблемой большинства российских произведений такого рода становятся неудачи России, которые можно было бы предотвратить с помощью современных знаний: Фрумкин приводит в пример роман, где в 1937 году офицеры Российского Императорского Космофлота высаживаются на Луне. Примечательно, что Фрумкин акцентирует «положительную» сторону альтернативно-исторического тренда: подобная литература «развивает в русской культуре особую, живую открытость к исторической проблематике». О качестве этой литературы — ни слова, и Сергей Буркатовский здесь стоит на одной доске с Аксеновым. С точки зрения истории идей, впрочем, это вполне легитимный подход.
7. «Кольта» публикует расшифровку фрагмента беседы филолога Виктора Дувакина с Виктором Шкловским; полная расшифровка доступна на сайте «Устная история». Шкловский, великий теоретик литературы и уцелевший свидетель ее краткой свободы в начале XX века, рассказывает вещи изумительные, которые переносят нас в 1910-е и 1920-е лучше любого учебника. Вот, например, о несостоявшейся дуэли Мандельштама с Хлебниковым (сюжет известный, но дело тут скорее в прямой речи):
«Шкловский. Я вам расскажу вещь Хлебникова в глубокую тайну. Хлебников прочел в „Бродячей собаке” стихи, в которых было слово „Ющинский — 13”, и посвященные Мандельштаму, то есть он обвинил Мандельштама в ритуальном убийстве. Мандельштам...
Дувакин: Простите, я не понял. „Ющинский — 13”? Это что же?
Шкловский: Ющинский был человек по делу Бейлиса, там было тринадцать уколов, ритуальное число.
Дувакин: Ах вот оно что! Вот она, разница поколений. Даже не помню.
Шкловский: Да. Теперь так. Мандельштам вызвал Хлебникова! „Я как еврей, русский поэт считаю себя оскорбленным и вас вызываю…”
Дувакин: На дуэль?
Шкловский: На дуэль.
Дувакин: Тогда еще были дуэли?
Шкловский: Были дуэли. Я сам дрался на дуэли. Ну, и другим секундантом должен был быть Филонов. Мы встретились при Хлебникове. Павел Филонов сказал: „Я этого не допущу. Ты гений. И если ты попробуешь драться, то я буду тебя бить. Потом, это вообще ничтожно. Вообще, что это за ритуальное убийство?” А Хлебников сказал: „Нет, мне это даже интересно! Я думал всегда /нрзб/ футуриста соединить с каким-нибудь преступлением”. Как Нечаев. Филонов сказал, что это совершенно ничтожно. „Вот я занимаюсь делом: я хочу нарисовать картину, которая бы висела на стене без гвоздя”. Тот говорит: „Ну и что она?” Он говорит: „Падает”. — „Что же ты делаешь?” „Я, — говорит, — неделю ничего не делаю. Но у меня уже похищает эту идею Малевич, который делает кубик, чтоб он висел в воздухе. Он подсмотрел. Он тоже падает”».
8. The Guardian публикует беседу Харуки Мураками с выдающимся японским дирижером Сэйдзи Одзавой. Разговор идет, конечно, о музыке. Мураками пишет, что всю жизнь страстно любил джаз, но не меньшее наслаждение ему приносит и классическая музыка. Подружившись с Одзавой, он записал несколько интервью с ним, которые 15 ноября выйдут отдельной книгой. Публикуемая беседа посвящена в первую очередь Густаву Малеру и культурно-историческому контексту его творчества. «Когда в последний раз я был в Вене, мне нужно было убить время, я арендовал машину и несколько дней ездил по югу Чехии — тем местам в Богемии, где находится родина Малера: деревенька Калишт, или, как ее теперь называют, Калиште, — рассказывает Мураками. — Я ехал туда не специально, просто проезжал мимо. Это до сих пор образцовая сельская местность: насколько хватает взгляда, кругом поля. Это недалеко от Вены, но я удивился, насколько рознятся эти два места. „Так вот откуда родом Малер!” — подумал я. Какой же переворот в своей системе ценностей он должен был испытать! <…> Кроме всего прочего, он был евреем. Но, если подумать, Вена — такой живой город оттого, что она впитала культуру окрестных территорий. Это видно по биографиям Антона Рубинштейна, Рудольфа Сёркина. Тогда становится ясно, почему в произведениях Малера неожиданно выскакивают популярные песни, еврейские клезмерские мелодии: в его серьезной, эстетичной музыке они как незваные гости». Дальше разговор заходит о Берлиозе, о Рихарде Штраусе. «Я боюсь упростить, но сказал бы, что если проследить развитие германской музыки начиная с Баха и продолжая Бетховеном, Вагнером, Брукнером и Брамсом, то Рихард Штраус вполне вписывается в эту траекторию, — говорит Одзама. — Конечно, он добавляет самые разные слои, но его музыка все равно прочитывается в этом потоке. А музыка Малера — нет. Здесь нужен совершенно новый взгляд. Это самое важное, что сделал Малер. Среди его современников были такие композиторы, как Шёнберг и Альбан Берг, но все они не сделали того, что сделал Малер».
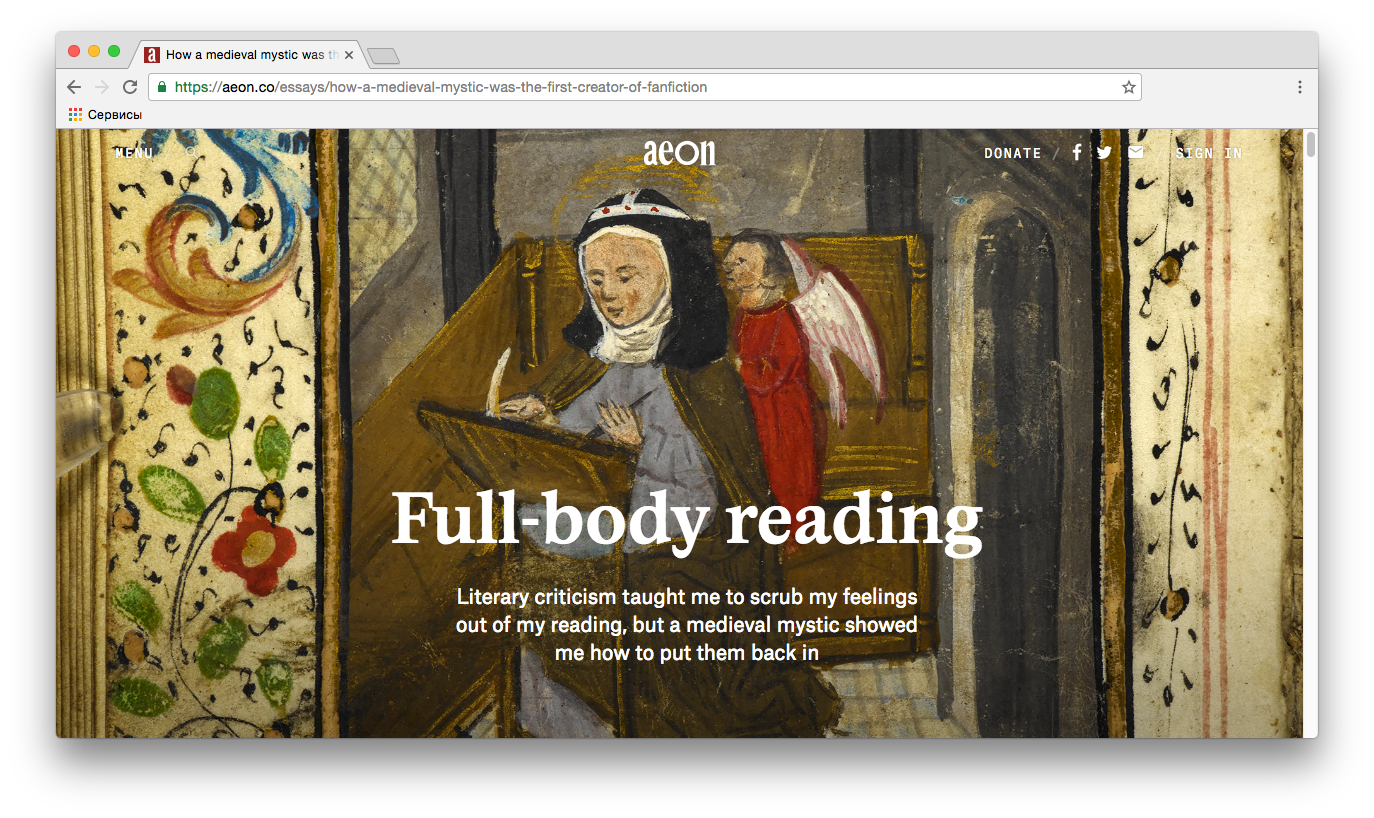
9. На сайте Aeon — эссе историка Анны Уилсон, посвященное средневековой духовной писательнице Марджери Кемп, которую считают автором первой автобиографии на английском языке. Уилсон, помимо истории, увлекается чтением и изучением фанфикшена: «Поглощая фанфики о Гарри Поттере, я занималась классической и средневековой литературой сначала в школе, затем в университете. Я выучила латынь и стала читать Вергилия, Цицерона и блаженного Августина в оригинале. Я писала холодные, рассудительные эссе, но ночь напролет проводила за моим постыдным удовольствием, фанфикшеном, который, кажется, максимально далек от изучения литературы». Особенно Уилсон по душе слэш — то есть фанфики, изображающие гомосексуальные отношения между героями: «Когда я читаю слэш, я чувствую, что меня как читателя признают и любят». В общем, Уилсон удалось совместить две свои страсти, и вот теперь она доказывает, что «Книга Марджери Кемп» — это еще и первый фанфик. «Посмертно Кемп приписали самые разные психические расстройства — от послеродовой депрессии до шизофрении, из-за чего ее часто не рассматривают всерьез как мистика или теолога. <…> Но когда я впервые читала „Книгу Марджери Кэмп”, я была поражена тем, как это мне знакомо. Ее видения, хотя и сугубо религиозные, по форме и ощущению очень напоминают мои истории о Мэри Сью». Мэри Сью, если кто вдруг не знает, это жаргонное обобщенное имя идеальной героини, которую вводят в чужую вселенную авторы фанфиков (и, как правило, описывают в ней себя).
Уилсон полагает, что Кемп, рассказывая о своем присутствии при распятии Христа и общении со Святым Семейством, становится этакой Мэри Сью: «ухаживает за матерью Марии, помогает Марии воспитывать младенца Иисуса и позволяет ей поплакать у себя на плече во время казни». «Ее отношения с Христом — романтические, даже эротические», — пишет Уилсон, подкрепляя это следующей цитатой кемповского Христа: «Дочь Моя… можешь смело, когда ляжешь в постель, принимать Меня как твоего законного мужа, как твоего драгоценного возлюбленного» (если пытаться стилизовать эту архаику на русском, то тут нужны «егда» и «Мя»). Чувственная проза Кемп заставила Уилсон, среди прочего, задуматься о том, что чувство как филологическая категория имеет право на существование: «Теперь, когда я сама преподаю, я всегда сначала спрашиваю своих студентов, что они чувствуют. Я надеюсь… что они не стыдятся того, что читают для удовольствия, поэтому я побуждаю их лишь улучшить, заострить те инструменты, которыми они уже владеют».
10. В Los Angeles Review of Books Мария Ханнун пишет о женской прозе послереволюционного Египта. То, что некоторые огульно называют «индустрией Арабской весны», на самом деле довольно сложная история, в которой тексты, полные энтузиазма, сменились текстами, полными разочарования (не говоря уж о реальных случаях репрессий в отношении писателей). Ханун пишет о двух романах, в этом году переведенных на английский: «Очереди» Басмы Абдель-Азиз и «Хрониках прошлого лета» Ясмин Эль-Рашиди. «Очередь» Абдель-Азиз, судя по описанию, напоминает другую «Очередь» — Владимира Сорокина. Это история о бесконечной бюрократии, и именно в очереди к неким Воротам, которые никогда не открываются (тут привет Кафке), проходит значительная часть действия: «Очередь к Воротам — микрокосм, изображающий современный Египет: здесь есть представители всех классов и гендеров — жители деревень и городов, богатые и бедные, женщины и мужчины. Да, люди, стоящие в очереди, соглашаются с законами Ворот, но за время ожидания образуются союзы и возникает неформальная экономика». Роман Эль-Рашиди, по словам Ханун, написан нарочито неэнергично и демонстирует, что в конце концов приводит к революционной буре: «жаркие летние дни, медленно закипающая ярость, монотонность». «Эль-Рашиди настаивает на том, что политика — в той же мере продукт помещений, что и продукт улиц. В романе мы перемещаемся по городу, попадая то в музыкальный магазин, где обсуждают одновременно достоинства „Братьев-мусульман” и редкую пластинку Умм Кульсум, то в тюремную комнату для свиданий, где семья сидит за праздничным тортом, то, наконец, в жилую комнату, где из телевизора льется пропаганда, в которую никто не верит». При этом Каир 2014 года у Эль-Рашиди оказывается слишком похож на Каир 1984-го: там, где раньше над улицами реяли многометровые портреты Мубарака, теперь реют портреты Ас-Сиси.
