Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Дэн Хили. Другая история. Сексуально-гендерное диссидентство в революционной России. М.: Музей современного искусства «Гараж». Перевод с английского Татьяны Клепиковой. Содержание. Фрагмент
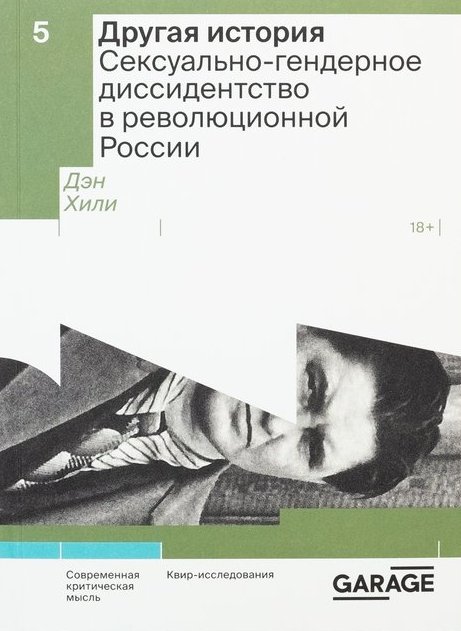 — Дэн, вы работали в российских архивах во времена, когда гомосексуальность как тема считалась в России экзотической или даже стыдной. Как вы преодолевали предубеждения людей, от которых зависело получение архивных документов?
— Дэн, вы работали в российских архивах во времена, когда гомосексуальность как тема считалась в России экзотической или даже стыдной. Как вы преодолевали предубеждения людей, от которых зависело получение архивных документов?
— Приехав работать в архивы в Москву в 1995—1996 годах, я не был уверен, как историки и архивисты отреагируют на прямой запрос материалов о гомосексуальности. Еще в Торонто, три года работая над диссертацией, я думал, как обойти эту проблему. Мои научные руководители и другие профессора, у которых я учился, были историками — экспертами по советскому праву и советской медицине. Они дали мне понимание о развитии и структурах обеих дисциплин, я читал медицинские и юридические журналы и книги заинтересовавшего меня времени — от заката царской эпохи до сталинского периода. Так мне стало ясно, что «гомосексуализм» как специфическая проблема для российского и советского государства находилась на пересечении осей права и медицины.
Мои научные руководители посоветовали способ, который работал еще в советские годы для западных исследователей, приезжавших в Москву: они формулировали тему исследования в выражениях, которые советская сторона считала идеологически приемлемыми вместо того, чтобы использовать термины, которые определяли современную науку того времени на Западе. Так мы придумали и мою тему: «История царской и советской судебной медицины и психиатрии, 1860–1960». Это мне позволило получить доступ к документам по медицине, праву, судебному делу, законодательству — целой плеяде дискурсов об однополой любви как ее трактовало государство. Я часто создавал еще и «информационный шум», заказывая много разных дел, среди которых только одно было о мужеложстве — все, чтобы скрыть истинные цели моих поисков.
Кроме того, в архивах я часто находил союзников — российских исследователей. Они, узнав о моей «настоящей» теме, делились со мной информацией о папках, которые можно запросить. Ну и конечно, стоит сказать, что все архивисты, с которыми я работал — от работников читальных залов до директоров архивов, — были всегда готовы помочь и принять у себя ученых. И это в то время, когда зарплаты платились с задержкой в полгода или даже больше! Вспоминаю о них всегда с огромным уважением.
— В нынешней ситуации в России доступ к архивам на квир-тематику еще более затруднен. Что бы вы посоветовали российским и иностранным коллегам, которые работают в том же направлении? Как вести себя? Как убедить российского чиновника? Нужны ли какие-то уловки?
— Если бы я вам тут рассказал о нынешних уловках, они бы уже ни для кого не сработали (смеется). Но если серьезно, то, во-первых, я не слышал ни об одном западном исследователе, который сейчас работал бы в российских архивах. Все налаженные механизмы, которые позволяли поехать в Россию ради исследования, теперь нарушились: научное сотрудничество, международные связи и проекты, финансовые и бюрократические формальности, необходимые для проживания в России на протяжении продолжительного срока, — все это в один миг стало невозможным. По весьма трагичным причинам. Боюсь, в будущем изучение России и СССР с западной точки зрения будет происходить в новой, совершенно иной атмосфере, сродни холодной войне.
Есть еще многое, что российские исследователи, интересующиеся квир-прошлым, могут сделать в своей стране, но им надо работать максимально профессионально и подходить к проектам с умом. Еще даже не ступив ногой в архивы, надо читать, читать, читать обо всем вокруг своей темы, чтобы понять, на какие вопросы ответ уже был дан и, самое главное, как он был дан. Какие использовались источники? Какой был подход? Успех дела зависит от хороших исследовательских вопросов, задать которые позволяет лишь систематическое и глубокое чтение по теме и размышления о прочитанном.
Кроме того, важно понять структуру хранения материалов в архивах, структуру российского и советского государства, как работали те культурные, медицинские, судебные или социальные институты общества, с которыми, возможно, придется столкнуться в архивах. Архивисты всегда любят работать с теми, по кому видно, что они разбираются в теме и в широком круге вопросов «около» нее: продемонстрировав такие знания, можно завоевать их уважение и получить больше помощи в работе. Я действительно считаю, что большинство сотрудников архивов более чем рады помочь. Не все они «бюрократы» — чаще всего это обычные люди с огромной нагрузкой и очень маленькой зарплатой, которые выполняют необычную, но весьма важную работу. Конечно, не надо заявляться в архивы с радужным флагом или с претензиями «покажите мне материалы, которые вы столько лет скрывали». Будьте обычным «скромным исследователем», и вы без проблем получите доступ ко всем материалам, к каким имеете право доступа на основании своего российского гражданства. В архивах нет ящиков с пометкой «гомосексуализм» — только ваши исследования проведут вас по запутанным путям российского и советского общества.
Ну и наконец (вот вам уловка!), используйте «квир-взгляд» на тексты, чтобы найти документы, которые расскажут истории о квир-прошлом России. Это жизненно важно. А развить такой взгляд можно только путем предварительной подготовки: читая и размышляя, изучая структуры советского государства и архивных коллекций.
— Ваш труд «Homosexual Desire in Revolutionary Russia: The Regulation of Sexual and Gender Dissent» (2001) был переведен на русский в 2008 году и, насколько мне известно, по объему и масштабу остался единственным в своем роде. Почему с того времени ни на русском языке, ни на иностранных не появилось новых крупных исследований, которые с сопоставимой полнотой рассматривали бы ЛГБТ-историю советского и постсоветского пространства?
— Вы знаете, моя книга хоть и была первым научным трудом такого рода, но в 1990–2000-х появились и научно-популярные книги российских авторов, которые стоит упомянуть как работы, серьезно описавшие эту тему. Объемные книги написали Игорь Кон, Лев Клейн, Константин Ротиков. Да, там не было сносок, и они не основывались на работе в архивах, но они представляют собой серьезные попытки поразмышлять о месте гомосексуальности в России, в мировоззрении россиян и в их истории.
История не медицина: требуется время, чтобы стал заметен результат ее открытий. Поколения россиян прочитали мою книгу на английском, а потом и на русском, и они начали размышлять, а как бы они сами могли изучать эту часть истории. Я думаю о таких людях, как покойный Алексей Марков из Санкт-Петербурга, с которым я планировал работать над первым переводом моей книги. С тех пор как в 2008 году вышел первый перевод, я повстречался со многими молодыми учеными из постсоветского пространства, которые работают над квир-историями своих стран. Некоторые их них уже написали весьма важные книги и диссертации: Ира Ролдугина, Рустам Александр, Феруза Арипова, Владимир Володин, Галина Зеленина, Ольга Петри. Большинство из них только начали свой путь в качестве квир-историков советского пространства, но некоторые, как например Александр и Петри, уже опубликовали очень интересные книги на английском.
— Почему, на ваш взгляд, важен и нужен новый перевод вашей книги на русский? Чем новый перевод отличается от предыдущего?
— Во-первых, первый перевод уже невозможно найти, а переизданий не было. Во-вторых, были проблемы с текстом (об этом я говорю в новом издании), которые возникли в первом переводе из-за очень сжатых сроков работы над русской версией и решений, которые приняли московские редакторы. С новым изданием появилась возможность исправить и осовременить текст для нового поколения читателей.
— За последние двадцать лет квир-исследований в мире стало заметно больше, вошла в обиход и новая терминология. Как это отразилось на новом переводе?
— Да. Татьяна Клепикова внесла несколько предложений, как изменить терминологию, не отвлекая внимание от основного текста. Например, в прогрессивно настроенных кругах в России уже стало привычным уходить от использования исключительно мужского рода в описании, скажем, профессий (авторка, редакторка), и новый перевод был сделан с учетом и в поддержку нового языка.
— Работа над новым переводом это для вас, очевидно, еще одно погружение в собственный труд 20–30-летней давности. Каковы, на ваш нынешний взгляд, с учетом научного опыта последних десятилетий, достоинства и недостатки книги? Что бы вы, анализируя Россию, сейчас сделали иначе?
— Когда я работал с Таней над новым переводом, меня, конечно, поразило, как мое нынешнее понимание трансгендерного опыта изменилось с начала 1990-х, когда я только начинал читать книги по этой теме и оттачивать свой «квир-взгляд». Я думаю, что некоторые случаи лесбиянок с мужским пассом, которые я описал в книге, сегодня рассматривались бы скорее как примеры трансгендерных мужчин. Я бы точно сегодня анализировал их по-другому. И все же, перечитывая текст, я увидел, что даже в девяностые я проводил четкое различие между диссидентством сексуальным и диссидентством гендерным, и старался подчеркнуть моменты, когда это различие было особенно важным. Чувствительностью к такому различию я обязан своему другу из Торонто, ныне покойному профессору Брайану Пронгеру , который многому меня научил в области постмодернистских теорий тела и телесности. По сути, он спас мою книгу от устаревания в наше время, когда дебаты о транс-темах приобрели особую важность.
 «Патологизированные сексуальности — советский „трансвестит“, 1957. Из учебника по судебной гинекологии, составная фотография К., первого диагностированного „трансвестита“ из Казани (по-видимому, в 1937 году)». Фото из книги «Другая история. Сексуально-гендерное диссидентство в революционной России»
«Патологизированные сексуальности — советский „трансвестит“, 1957. Из учебника по судебной гинекологии, составная фотография К., первого диагностированного „трансвестита“ из Казани (по-видимому, в 1937 году)». Фото из книги «Другая история. Сексуально-гендерное диссидентство в революционной России»
— Вы работали в России, когда эта страна открывалась для Запада. Это было временем надежд. Теперь же на глазах растет стена между Россией и западным миром. Нужны ли нынешним квир-исследованиям о России какие-то новые акценты, отличные от ваших, прежних?
— События этого года со всей остротой указывают на необходимость радикальной деколонизации историй Российской империи и Советского Cоюза. Во время моей учебы преобладал взгляд на Россию и СССР, при котором в центре была Москва. Считалось, что архивы, библиотеки, собрания, интеллектуальная жизнь, которые что-то значили для западного исследователя, все были в столице советского государства. И знать-то якобы надо только русский, чтобы работать в моей дисциплине, — это подход, в котором сразу читается оттиск холодной войны. Если бы я сейчас начинал свою работу, я стал бы изучать Украину, Грузию, Центральную Азию и размышлял бы о том, как опыт колонизации, насилия и сотрудничества с колониальной властью повлиял на жизни квир-людей из этих стран. Эти страны заслуживают нашего внимания как самостоятельные единицы истории, а не как какой-то экзотический придаток к Российской империи или советскому государству. И конечно, пришлось бы учить новые языки: украинский, грузинский, кыргызский... Мой муж, Марк Корнуолл, историк-специалист по Австро-Венгрии в университете Саутгемптона, может читать как минимум на шести языках этой ушедшей империи. Какое же у меня право писать о моем регионе, пользуясь только русским языком как источником знаний?
— Из вашего исследования можно понять, что российская квир-история куда прихотливей, чем может показаться стороннему наблюдателю: царская Россия в свои последние годы была с точки зрения квир-свобод даже либеральней Европы, а в первые советские годы предпринимались попытки радикально переосмыслить отношение к гомосексуальности. Мне, однако, показалось, что и до революции, и после нее в отношении к ЛГБТ-людям был силен экзотизирующий нарратив: негетеросексуальность — это якобы нечто привозное или не очень-то заслуживающее внимания. Так ли это, на ваш взгляд? Если так, то сохранился ли этот нарратив в России последних лет?
— Это такая форма защиты от темы — притвориться, что это не «наша» проблема или, если и наша, то совсем не важная. Взять, например, биографию Чайковского. Все эти тенденции налицо в документальных фильмах об измученной душе Петра Ильича, которая нашла выражение в его таланте, стала вдохновляющей его силой. Слава богу, что у Чайковского такой талант! Слава богу, что он нас осчастливил своей великой музыкой! Вот только вопрос, который в этих документальных фильмах никогда не задают, — это откуда мучение взялось? Почему он был изгнанником в обществе и страдал от условностей того времени? Как выглядели отношения между мужчинами в тот период в разных слоях общества и почему они его так привлекали и одновременно вызывали отвращение?
— А есть ли у «русского квир-человека/образа жизни» какие-то специфические черты, отличные от западных?
— Не знаю, существует ли исключительно русская квирность или, если уж на то пошло, какая-то специфическая западная ЛГБТИК-исключительность. В чертах ЛГБТИК-жизней в России можно прочитать многие аспекты, которые напоминают и западные, и незападные квир-жизни. Все мы вырастаем в гетеросексуальных семьях (до относительно недавнего времени это точно касалось всех), всем нам приходится существовать в рамках пристального внимания тех членов семьи, которые являются «стрейтами». Все мы часто вырабатываем путь к своей сексуальности или гендеру, отличному от большинства, безо всякой помощи, образования или советов — в полном одиночестве, не очень понимая, через что мы сами проходим. Мы все живем в обществах, где информацию о негетеросексуальном и гендерно неконформном опыте получить намного труднее, чем информацию о гетеросексуальных, гендерно конформных жизнях. Многие из нас растут или в какой-то момент ощущают на себе влияние институционализированной религии — независимо от того, говорим мы о православии, исламе или католицизме. Конечно, можно говорить о разных степенях этого опыта, который, безусловно, у каждого разный, но я бы не стал помещать Россию на какую-то отдельную полку: законы о «гей-пропаганде» есть и в некоторых западных странах, есть притеснение негетеросексуальных людей со стороны семьи в Китае, Индии, Африке, арабских странах, да и в той же Европе. Папа Римский ведет антигендерную кампанию из Европы, распространяя дезинформацию по всему миру. За адекватные гей- , лесби- , транс- , бисексуальные жизни приходится бороться в каждом новом поколении: в мире, в котором мы живем, никто нам их просто так не преподнесет на блюдечке.
— На квир-карте России огромное количество белых пятен. Не могли бы вы обозначить темы, которые требуют скорейшего разъяснения?
— Одним из главных белых пятен остается регулирование и отношение к квир-мужчинам в императорской и советской армиях, полиции, спецслужбах, а также их опыт в этих общественных группах. По этой теме практически ничего нет, кроме статьи Иры Ролдугиной (о случаях гомосексуальности на императорском флоте) и главы работы Артюра Клеша (о гомосексуальности в Красной армии во Вторую мировую войну).
Другая абсолютно неисследованная область (я говорю сейчас о серьезном научном исследовании, а не слухах) — как Русская православная церковь с 1700 года писала и думала об однополых отношениях и гендерной неконформности. В привязке к современным российским дебатам было бы весьма полезно знать, что церковные мыслители говорили о квир-поле и квир-гендере на закате Российской империи, а также знать, что церковь говорила и делала по данным вопросам в советский период. Какова интеллектуальная история православной мысли о квир-жизнях и морали? Ник Мейхью в Оксфорде начал работу в этом направлении, но это непочатый край исследований. И это я даже еще не успел затронуть нерусские народы империи, а позднее Союза, исследования по которым находятся в зачаточном состоянии!
 Дэн Хили
Дэн Хили
— Когда в России в 2013 году был принят закон о «пропаганде гомосексуализма», было ли это для вас неожиданностью? Как вы расцениваете его появление? Как «сбой системы» или логичное выражение?
— Во введении к своей первой книге я писал, что «имеющаяся литература по истории российского и советского обществ, игнорируя или отказываясь принимать во внимание сексуально-гендерное диссидентство, не отражает опыт „сексуального меньшинства“. Она упустила из виду один из важнейших компонентов власти, сама способствуя воспроизводству и распространению мифа об универсальной, естественной и вневременной российской или советской гетеросексуальности».
Обычная история игнорирует то, каким образом настоящая, действенная власть над людьми вплетается в гендерные отношения, в половые нормы. Знание о квир-России позволяет нам понять способы и объяснения, которыми пользовалось российское и советское государство, чтобы сделать россиян гетеросексуальными и гендерно конформными. Если хочется понять глубокие и разрушительные разделения труда на основе гендера в России (мужчины идут на войну, женщины рожают детей), то надо изучать, почему прилагалось так много усилий, чтобы подавить такие вещи, как однополая любовь и гендерная флюидность.
Закон о «гей-пропаганде», как я писал в своей книге о гомофобии в России в 2017 году, меня не удивил. Закон о гей-пропаганде делает больше для политической элиты, которая его ввела, чем просто запрет одной вещи. Его политическая значимость меняется со временем. Он начинался как оппортунистическая политическая инициатива Кремля, чтобы дискредитировать демократическую оппозицию Путину и «Единой России»: он стал полезным риторическим и административным инструментом для борьбы с гражданским обществом. А теперь это уже часть путинского бренда и идеологии.
— Насколько я знаю, закон о «гей-пропаганде» был первым законотворческим актом современной России, который пытался наложить запрет на объективно существующую реальность — он хотел изъять квир-человека из публичного поля. В последние годы кажущиеся абсурдными законы стали нормой российской реальности (например, закон о «фейках»). Насколько органично закон о «гей-пропаганде» выражает особенности режима Путина?
— Вы сделали очень важное замечание: этот закон попытался отменить объективно-существующую реальность ЛГБТИК-граждан России. Нынешние предложения расширить рамки закона, чтобы запретить «гей-пропаганду» совершеннолетним — иными словами, полностью заткнуть рты квир-россиян, — это логичное продолжение подобной политики.
Законодательная культура в России сейчас, к сожалению, стала местом для абсурдных концепций и «альтернативных реальностей». Она немного напоминает идеологический ландшафт советского брежневского периода: воображаемые рекордные урожаи, воображаемые победы в Афганистане, и в Чернобыле не было проблем с ядерным реактором, и самолеты в Союзе вообще не падали, и гомосексуалов не было. Думаю, тысячи и тысячи ученых в России, изучающих право, задаются вопросом: что стало с постсоветской мечтой о верховенстве права в стране, которая 74 года жила в бесправии при коммунистическом режиме?
— Социологи отмечают, что нынешнее российское общество крайне атомизировано и не склонно к коллективному выражению своей воли. На ваш взгляд, отражается ли эта разобщенность на ЛГБТ-активизме в России?
— Ну а как может это не отражаться на ЛГБТИК-активизме? В России остается все меньше людей, у которых есть опыт и мужество, чтобы бороться за права ЛГБТИК и за настоящее гражданское общество. Официальная гомофобия делает любой разговор о правах или существовании ЛГБТИК-людей «непатриотичным» — и даже изменой Родине. Режим превращается в тоталитарный, выдавливая последние остатки либеральной, демократической, свободной России и, совершенно очевидно, радуясь отъезду таких людей. Как вообще можно говорить об ЛГБТИК-активизме в таких условиях?
— Закон о «пропаганде гомосексуализма» настолько очевидно нарушает базовые права человека, что после 2013 года для многих эта «норма» стала поводом для особо пристального внимания к проблемам «радужного» сообщества в России: бум русскоязычных телеграм-каналов на квир-тематику, регулярное и все более компетентное освещение ЛГБТ-тем в либеральных российских медиа, издание старой и новой квир-литературы на русском, появление в России новых коммерчески успешных квир-беллетристов и так далее. Каковы, на ваш взгляд, на взгляд исследователя, неожиданные «плюсы» государственной гомофобии?
— Большие плюсы как раз в этом «возбуждении дискурса» (как мог бы выразиться Мишель Фуко) — введение этого закона неизбежно приводит к новому витку дискуссий на эту тему. Запретив «гей-пропаганду», Кремль в итоге вызвал более активную, более интересную, более проработанную дискуссию об ЛГБТИК-существовании, чем было прежде в русскоязычном пространстве. До закона о «гей-пропаганде» российская демократическая оппозиция не сильно-то считала ЛГБТИК-права правами человека — чем-то, за что стоило бы бороться в рамках общей борьбы за свободу. Результат запрета на квир-дискуссию в какой-то степени обнадеживающий, потому что он создал союзников для ЛГБТИК-сообщества среди российских демократов и тех, кто верит в другое будущее для России. Сейчас у демократов куда лучшее понимание трудностей и проблем, с которыми сталкиваются ЛГБТИК-граждане России, и это один из непредвиденных результатов политической гомофобии.
— Закон о «пропаганде» не был сугубо российским изобретением. Нечто подобное было принято в Великобритании в 1980-е годы. Власти в США во время эпидемии СПИДа также позволяли себе открыто выражать гомофобию. Будет ли уместно утверждать, что борьба за ЛГБТ-права в России развивается в целом схожим образом, как это было на Западе (пусть и с запозданием)?
— Как историк я не люблю эту старую песню о том, что Россия «отстает» в своем развитии от Запада. Во Флориде консервативно настроенные политики пытаются протолкнуть закон «don’t say gay», который запрещает учителям в школах говорить об ЛГБТИК. Римская католическая церковь активно проводит антигендерные кампании. Польша вводит «зоны, свободные от ЛГБТ». На этом фоне заявления, что Запад каким-то образом опережает Россию в том, что касается ЛГБТИК-прав, вообще не имеет под собой никакого основания. Да, есть разные векторы развития, каждое общество ведет свои дискуссии о природе ЛГБТИК-существования и гражданственности. Правда в том, что все мы находимся в постоянной борьбе за сохранение того, чего мы достигли за прошлые десятилетия, мы противостоим попыткам подавить наши голоса, стремимся добиться улучшения качества жизни ЛГБТИК-людей.
— Современной России вы посвятили книгу «Russian Homophobia from Stalin to Sochi» (2017). Из нее можно понять, что гомофобия — это нечто органичное для советской и российской постсоветской государственности. Однако в нынешнем российском публичном пространстве есть открытые гомосексуалы (например пропагандист Russia Today Антон Красовский). Как их присутствие описывает особенности режима Путина? Уточню: нет ли в этом выражения «белого информационного шума», когда важные для западного общества постулаты (идея diversity, например) имитируются, служат своего рода «потемкинской деревней»?
— Я очень надеюсь, что моя новая книга будет переведена на русский: она обращена к западным читателям, но будет полезна и для российской публики, поскольку покажет многие точки различия в том, что касается привычек и представлений о квир-жизнях в их обществе.
Что же касается diversity и потемкинских деревень, то в каждом квир-сообществе есть свой «дядя Том», как у Гарриет Бичер-Стоу. Красовский — это довольно отвратительный публичный персонаж, это «плохой гей», делающий работу для царя. Я думаю, он мог бы продолжить ряд условной элитной группы (князь Владимир Петрович Мещерский и Николай Ежов). Правда, мне жаль Потемкина: ведь такие деревни есть не только в России. У нас в Великобритании тоже достаточно неприятных гей-политиков в правящей Консервативной партии. Теперь уже бывшего госминистра Кристофера Пинчера давно обвиняли в сексуальных домогательствах до мужчин. «Разнообразие», которое «diversity», не значит «благонравственность».
 «Патологизированные сексуальности — „гомосексуалистки“, около 1965». Фото из книги «Другая история. Сексуально-гендерное диссидентство в революционной России»
«Патологизированные сексуальности — „гомосексуалистки“, около 1965». Фото из книги «Другая история. Сексуально-гендерное диссидентство в революционной России»
— Были ли вы открытым гомосексуалом, когда работали в России? Если да, то как эта открытость воспринималась тогда россиянами?
— В девяностые я в основном был открыт со всеми россиянами, с кем общался, но я не выставлял свою гомосексуальность напоказ. Мои научные руководители попросили меня снять сережки (уже давно их не ношу!), чтобы не привлекать внимания. К работе в архивах я подходил профессионально и никогда не требовал от сотрудников ничего экстраординарного. То же касается и моей работы в Институте истории РАН, который делал мне приглашение для визы. Были гетеросексуальные российские ученые и исследователи, которые полностью меня принимали и понимали научное обоснование работы, которой я занимался: историки феминизма, историки, изучавшие российское и советское общество, исследователи культуры. У меня были прекрасные отношения с Игорем Коном. У меня было много русских друзей — геев и лесбиянок, — которых я спрашивал, как они ладят с семьей; я смотрел, как они ведут себя на улице, задавался вопросом, где лежат границы дозволенного, а где начинается опасность. Конечно, были места, особенно поздно ночью, где было опасно выглядеть квирно. Если в шесть утра я выходил из гей-клуба «Шанс» в Москве, то стоило оглядеться по сторонам, прежде чем направиться к метро, чтобы убедиться, что никакие отморозки за тобой не увязались.
Когда в нулевые я ради исследований приезжал в Москву и Санкт-Петербург, у меня было много новых приключений с моими гей-друзьями, и я познакомился со многими новыми людьми онлайн. Коммерческий квир-сектор тогда был на подъеме, и это было невероятно здорово наблюдать: в Москве были прекрасные гей-бани, отличные ночные клубы, книжный магазин «Индиго», куда я просто обожал заходить.
Также я стал ездить в более удаленные города России: Саратов, Выборг, Екатеринбург, Ухта, Печора, Магадан, Пермь. Моя гей-жизнь в этих городах была очень разной. Я был открыт перед друзьями и научными коллегами в Екатеринбурге и Перми, которые в то время были либеральными городами. В местах вроде Магадана и Печоры я оставался «в шкафу», а те исследования, которыми занимался — о докторах в лагерях ГУЛАГа, — не имели ничего общего с исследованиями сексуальности, так что я не заговаривал с местными историками или работниками музеев о моей «предыдущей» карьере. Конечно, эта мера вела к одиночеству, но она была необходима. И я опасаюсь посылать молодых квир-исследователей в Россию, поскольку сложно гарантировать их безопасность и невозможно предсказать, с каким отношением они могут столкнуться.
— Почему вы вообще взялись за эту тему — «Россия и ЛГБТ»?
— Я как раз недавно прочитал лекцию в Оксфорде по поводу моего выхода на пенсию, которая была посвящена этой теме! Если кратко, Советским Союзом я заинтересовался в семидесятых — тогда я был просто молодым канадцем. В 1974 году я впервые посетил СССР в составе группы школьников, Интурист провез нас по Москве и Ленинграду. Я влюбился в язык, в историю — ведь она была такой увлекательной по сравнению с историей моей родной Канады. И я пошел изучать русский язык и литературу в Университет Торонто. В студенческие годы я постепенно сделал каминг-аут как гей и активно участвовал в деятельности старейшей канадской студенческой ЛГБТ-организации — «Геи в Университете Торонто» (ГАУТ — GAUT, Gays at the University of Toronto). Два года я был сопредседателем этой организации, как раз в то время, когда совершенствовал свой русский язык. И я стал задумываться, как совместить эти два интереса, которые у меня были, — СССР и ЛГБТ. И в конце концов мне выпала возможность это сделать, когда СССР встал на путь свободы в 1980–1990-е. Я вернулся в науку в 1990 году, чтобы поступить в аспирантуру и изучать «гей- и лесби-» историю Российской империи и СССР. Мое желание заниматься диссертацией подпитывалось в первую очередь тем, что я пережил эпидемию ВИЧ/СПИДа, — многие, очень многие из моих друзей покинули этот мир. Скорбь по ним переросла в гнев и решимость. Мой труд стал своего рода памятником погибшим возлюбленным и друзьям, и, когда в процессе работы из-за каких-то обстоятельств мне казалось, что продолжать не стоит, — я вспоминал о них, и эти воспоминания давали мне силы. Когда я писал эту книгу, вряд ли я думал, что пишу ее «для русских ЛГБТИК-людей». И как же замечательно, что ЛГБТИК-люди в России считают ее важной и интересной!
